Григорий Кружков: «Перевод есть стремление окончательно понять»
В этом году у Григория Кружкова, поэта, переводчика англоязычной поэзии, литературоведа, историка литературы, эссеиста, вышло сразу две книги, напрашивающиеся на звание итоговых, во всяком случае — дающие читателю (особенно — вместе) объёмную картину того, чему посвящает свои усилия их автор. Это — поэтический сборник «Пастушья сумка» — избранные стихотворения автора почти за пять с половиной десятилетий и «Ветер с океана» — монография (с приложением переводов) об англо-ирландском поэте-символисте Уильяме Батлере Йейтсе, которого Кружков переводит много лет, прочитанном через его русских поэтов-современников и вообще — русскими глазами, а в конечном счёте — о культурной эпохе (даже — о двух, весьма различно устроенных эпохах), к которой принадлежал Йейтс, о смысловом устройстве его времени. Надеясь ещё иметь случай поговорить об обеих книгах подробно, наш корреспондент Ольга Балла-Гертман увидела в них, прежде всего, своего рода интеллектуальный автопортрет автора, и вследствие этого — несомненный повод к тому, чтобы обсудить с ним смысл и истоки его работы в культуре в целом, а заодно — трудности и тонкости переводческого дела, соотношение в переводческом сознании чужого и своего и взаимодействие переводчика и поэта в пределах одной личности.

О. Балла-Гертман: Начнём же с самого начала. Что вас, физика по образованию, привело в гуманитарные занятия вообще и в перевод в особенности?
Г. Кружков: Для моего поколения это не было чем-то исключительным. Многие мои друзья уходили из физики в поэзию, в перевод, в кино, в музыку. Наша молодость была романтическим временем. Физика была в моде; но мы надеялись успеть всё. Как у Маяковского: «Сидят папаши, каждый хитр: землю попашет, попишет стихи». Но литература оказалась ревнивой дамочкой. И в конце концов она просто перетянула меня к себе.
О. Б.-Г.: С поколенческими чертами как раз понятно. Но меня прежде всего интересуют всё-таки ваши личные пути и мотивы и то, как складывались собственные ваши профессиональные траектории. (Ну и, конечно, конкретный рисунок взаимоналожения таких разных профессиональных занятий). Ведь не так просто уйти из физики — в пределах которой, насколько я себе представляю, вы успели очень неплохо продвинуться — дойти до уровня аспирантуры в Институте физики высоких энергий в Протвино, где проучились три года, — в совершенно иначе организованную область знаний и деятельности. Меня тут интересовали бы как раз сложности перехода, «сопротивление материала» — и, наоборот, неожиданные его — перехода — лёгкости, когда вдруг попадаешь на «свой», тебе соответствующий путь — и всё начинает получаться как бы само. Вот как это было?
Г.К.: Да нет, никакой лёгкости не было. Началось всё фактически с запрета на профессию — неожиданного и непонятного. А дальше вышло по-писаному: «Я — часть той силы, которая вечно хочет зла и вечно творит благо». Но сотворила не сразу: сначала были десять очень трудных лет. Было всё — и гибель самого близкого друга, и роковая любовь с вертеровскими страстями, безрассудными и безудержными… И вдобавок — тяжёлая депрессия, лишившая меня на целые годы возможности работать и вернувшая к разбитому корыту после сверхудачного начала. Потом женитьба, рождение первого ребёнка, безденежье, ропот близких. Лишь к тридцати пяти годам небо стало понемногу проясняться.
О. Б.-Г.: Признаюсь, мне думалось в первую очередь о трудностях, следующих именно из первоначальной естественнонаучной подготовки: надо, мнится, переходя к гуманитарной работе, вырабатывать совсем другие навыки мышления. Но, может быть, это обычный страх безнадёжного гуманитария перед тем, что для него непрозрачно. Так как же на самом деле: помогает ли изначальная естественнонаучная выделка ума работе со словом или это совсем не пересекающиеся умения?
Г.К.: Ещё как помогает. Навык анализа, умение отделять важное от второстепенного, логическое мышление. И поэзия, и физика, как я их понимаю, стремятся к красоте. Я и с физикой расстался без большого сожаления, потому что почувствовал, что она стала забывать про этот идеал, уходить в рутину. А может быть, природа стала несговорчивей. Данные накапливались, но ничего такого красивого, как уравнения Максвелла для электромагнитного поля или Эйнштейна — для гравитационного, ядерная физика родить не могла. А ведь не случайно Поль Дирак однажды сказал: «Этот результат слишком красив, чтобы быть неверным; вообще красота уравнений важнее, чем совпадение с каким-либо экспериментом». Я думаю, что тот же принцип подходит и к поэтическому переводу. И ещё мне всегда помогал воспринятый в юности принцип дополнительности Бора. Логика и интуиция не противоречат друг другу, а дополняют друг друга. Как волна и частица в физике микромира.
Один пример применения физического мышления в «области буковок», достижение, которым я немножко горжусь, — моя статья о словаре Шекспира «Мифы и цифры». В ней я экспериментально определил зависимость длины словника от длины текста (закон Хипса) и из неё аналитически вывел закон распределения слов в языке по частотности (закон Ципфа). Оба эти закона давно известны в математической лингвистике, но я-то их не знал и переоткрыл самостоятельно. А главное — попутно установил связь между этими законами, неизвестную лингвистам, в виде изящного дифференциального уравнения, так что если вам известна одна формула, то вторая легко выводится как следствие.
О. Б.-Г.: А почему именно англоязычная литература стала основным предметом ваших переводческих и исследовательских занятий? Тут меня как раз интересуют не (столько) биографические, неминуемо случайные, обстоятельства возникновения этого интереса, хотя и о них тоже можно что-нибудь сказать, — сколько свойства самих языка, литературы и культуры. Какие именно их особенности (пластика, ритмика, эстетика, этика…?) привлекают вас — и даже не только как переводчика, но в первую очередь как читателя? Что вам видится в них волнующим, интригующим, бросающим, может быть, вызов человеку русской культуры, берущемуся их понимать?
Г.К.: Тут речь скорее о любви, а не о любопытстве или вызове. Как я теперь понимаю, любовь зародилась ещё в детстве. Три самые мои любимые книги были «Записки о Шерлоке Холмсе», «Остров сокровищ» и «Айвенго». Так зародился мой английский миф. В основе его — честность, учтивость и благородство, но также и логика, которая есть учтивость мысли, и дух приключения.
Холмс называет свой метод дедуктивным, хотя на самом деле он, скорее, индуктивный; но поскольку этого слова я тогда не понимал, то воспринимал его просто как «логический». А без логики невозможно правильно связать двух мыслей. Логика — основа мышления, синтаксис науки. Но не только; я уже тогда ощутил, что она имеет прямое отношение к этике, к обычной честности. «Будем рассуждать логично — это основа всякой нравственности», — сказал философ, и это совершенно точно.
Что касается учтивости и благородства, то и в России, конечно, была дворянская честь, офицерская честь. Но это немножко другое.
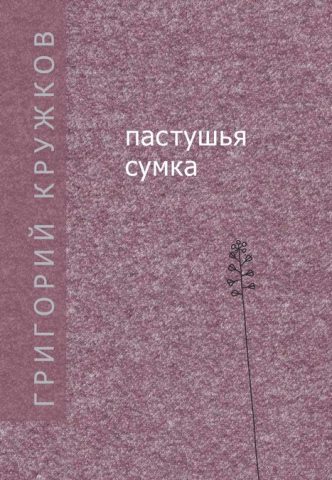 О.Б.-Г.: А в чём же разница?
О.Б.-Г.: А в чём же разница?
Г.К.: В России это — больше сословный предрассудок, чем истинное джентльменство. В этом убеждали меня многие литературные (и не только) примеры. Мне трудно представить себе, чтобы доктор Ливси, например, убил юного друга из-за пустячной ссоры, как Онегин, или стал бы строить хитрые схемы для удовлетворения своей прихоти или честолюбия, как Печорин.
Айвенго покорил меня образами храбрых рыцарей и вольных лесных стрелков. Афоризмы хитрого монаха дали мне первое понятие о латыни, а простодушная болтовня пастухов в начале книги — о лексическом составе английского языка. Помните: как только наша свинья попадет на стол норманну, она уже не «пиг», а «порк», а наш саксонский бык — «окс» — становится норманнским «беф»?
Что касается пластики, ритмики, эстетики — да, языки разные, и это не только разность фонетики и прочего, в языке отразилась разница культур, исторического пути народа. Говоря совсем кратко, английский более логичен и лучше подходит для описания абстрактных связей между явлениями, по-английски это выражается намного более чётко и кратко. Русский силён экспрессией и изобразительной силой. Эту разницу я всегда помню и активно использую в переводе.
О.Б.-Г.: Переводчик — тоже ведь своего рода читатель (перевод — форма интенсивного чтения), и у вас наверняка есть читательские предпочтения. Что (и кто) вам интереснее всего в англоязычной поэзии? (Вопрос как об именах, так и о тенденциях).
Г.К.: Что касается имён, их легко проследить по моим публикациям. В ренессансной поэзии это Шекспир и Донн, но и Уайет, Гаскойн, Сидни, Уолтер Рэли, Марвелл; в XIX веке — Джон Китс, но и Джон Клэр, Теннисон, Браунинг, Эмили Бронте, Элизабет Браунинг, Хопкинс, Россетти, поэты-декаденты 1890-х годов, и рядом с ними — Стивенсон и Киплинг. Дальше — Уильям Йейтс, конечно, но и Джойс, и Роберт Грейвз. Дальше упомянем поэзию нонсенса — Эдварда Лира и Кэрролла. Из американцев, в первую очередь, — Эмили Дикинсон, Роберт Фрост и Уоллес Стивенс. О каждом из них у меня есть прозаические эссе, иногда довольно пространные. Здесь я отсылаю в первую очередь к своему двухтомнику «Очерки по истории английской поэзии» (2015; 2016). Картина, на первый взгляд, получается пёстрая, и общего знаменателя как будто не видно.
О.Б.-Г.: Но я думаю, что на уровне внутреннего чувства такой знаменатель наверняка есть. Из двухтомника мы вычитаем собственный знаменатель (а то и не один); мне же интересно, как это чувствуется изнутри.
Г.К.: Если учесть, что число англофонных поэтов, которых я переводил, достигает ста пятидесяти и они все любимые (честное слово!), то ситуация окончательно запутывается. И тем не менее, да, общий знаменатель есть, и пристрастия имеются. В поэзии я ценю — сейчас попробую сформулировать: чувство формы и композиции; живость мысли и уступчивость чувства; широту горизонта, умение словом пробудить в нас целую гамму разнообразных отзвучий. А также (last but not least) Ум, который проявляется и в дурашливости. Особенно ясно — в такие моменты. И ещё, и ещё. Всё, что есть удивительного и возвышенного в человеке, я ищу и нахожу в прекрасных стихах. Джон Рёскин говорил: «Высшая цель искусства — представить нам образ благородного человека. Других задач у неё никогда не было».
О.Б.-Г.: Вы переводили в основном старых поэтов; а в каких отношениях вы с современной поэзией англофонов?
Г.К.: Что касается современной поэзии, я хочу напомнить строку Александра Величанского: «Человек современен лишь Богу». Поднимать актуальные вопросы или, чего доброго, отражать реальность или, упаси Господи, искать новые формы — пусть этим занимается тот, кому оно любезно. По-моему, всё это ерунда. (В скобках, для прокурора: это моё оценочное суждение). Но самый главный наш Александр, я думаю, меня бы понял.
О.Б.-Г.: Ммм… я совсем не имела в виду ничего такого, произнося слово «современность»: никоим образом не «актуальные» вопросы в их суетности, но всего лишь эстетические черты эпохи, особенности её языка, её видения мира. Ведь есть же они?
Г.К.: Что касается особенностей языка и эстетических черт, то, по-моему, главная тенденция сейчас: чтобы попроще, попонятней — и без всяких там выкрутас типа рифмы и прочего, мешающего доносить свои творения до слушателей на международных фестивалях и прочих гастролях. Один современный автор выразил это так: «Современные поэтические практики чаще всего не возводят перед переводчиком конвенциональные стены, а наоборот — способствуют диалогу над лингвистическими, культурными, политическими и другими барьерами». Между прочим, у купцов Средиземноморья тоже была потребность, чтобы их понимали в любом порту — в Марселе, в Леванте и в Александрии. В результате выработался особый упрощённый язык, lingua franca. То же самое происходит и в «современных поэтических практиках».
Беда лишь в том, что эти практики обычно не имеют отношения к поэзии, как я её понимаю и как она всегда понималась. Хаусман в своей известной лекции 1933 года писал по этому поводу: почему они называют это поэзией? Ведь это совершенно другое явление, и было бы честней придумать для него другое слово. Возьмите в пример физиков: когда им понадобилось название для нового явления, они придумали слово «газ», чтобы не было путаницы. Газ, а не воздух, например, или какое-то иное уже приставленное к делу слово. Поскольку сами «практики» не потрудились придумать названия своему занятию, рискну сделать это за них. Назовём эту штуку, например, «дикса». Так вот: переводить поэзию и переводить современную диксу — два совершенно разных занятия. Первое — труднейшее искусство, мучение, риск; для второго из них достаточно знаний выпускника школы с результатом ЕГЭ от 50 баллов и выше.
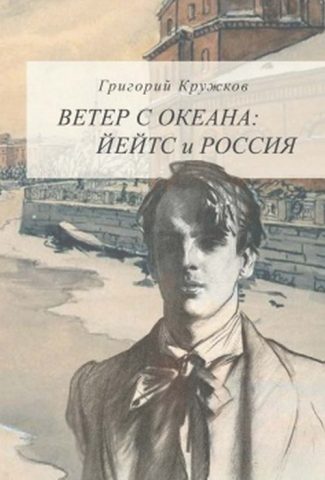 О.Б.-Г.: Ваше очарование англофонным миром понятно. Но сразу же думается — бывали, наверное, и разочарования? (Такие, например, ситуации, когда поэт при переводческом вживании в него, при ближайшем его рассмотрении оказывался не так интересен?)
О.Б.-Г.: Ваше очарование англофонным миром понятно. Но сразу же думается — бывали, наверное, и разочарования? (Такие, например, ситуации, когда поэт при переводческом вживании в него, при ближайшем его рассмотрении оказывался не так интересен?)
Г.К.: Чтобы с английским поэтом — сперва очарование, а потом разочарование? — такого что-то не припоминается. По крайней мере, с тех времён, когда выработался какой-никакой вкус. Скорее, наоборот: бывало, что-то на первый взгляд казалось второсортным и малоинтересным, а потом я вникал — и очаровывался. А вот просто разочарование — без очарования — при знакомстве с очередным современным поэтом, лауреатом того и сего, это сплошь да рядом.
Ну а если посмотреть не с переводческой, а с обычной читательской точки зрения, всё время происходит, конечно, какая-то переоценка акций, одни подрастают, другие худеют, это естественно. И любимые поэты перестраиваются по рангу: то Ахматова выходит вперёд Цветаевой, то наоборот. Но это не разочарование, а нечто другое — закономерное и ни для кого не обидное. У меня даже Маяковский, давно задвинутый на дальнюю полку, недавно был реабилитирован и вернулся — не в друзья и собеседники, конечно, но я как бы заново ощутил и восхитился: как же все-таки он был талантлив, чёрт! И заново опечалился.
О.Б.-Г.: Но всё-таки: а был ли кто-то из переводимых, кто так и не поддался? Вообще, кто оказался самым трудным — и что оказывается труднее всего при создании русских соответствий английским высказываниям?
Г.К.: Трудный вопрос. Вспоминать о своих неудачах не всякий готов. Кто так и не поддался? Это дело интимное и касается двоих, не так ли? Ну а если кроме шуток… Я обхаживаю только тех поэтов, с которыми ощущаю родство душ, с которыми (я знаю) обязательно должен найтись общий язык. Помешать может только излишняя скованность и неуверенность. Или же чрезмерное нахальство. Вот Сцилла и Харибда переводчика. Пройти между ними — главная трудность.
О.Б.-Г.: Ну, я скорее имею в виду не неудачу переводчика, но сопротивленние материала, обусловленное объективными обстоятельствами, — например, принципиальной разноустроенностью языков или каких-то участков культуры или жизни, о которых идёт речь в тексте.
Г.К.: Перевести можно почти всё, кроме языка как такового. Отсюда — редкие исключения: шарады не переводятся, густая топография не переводится, — если в ней всё дело. Есть прелестная поэма середины XVI века, то есть ещё дошекспировского времени (кстати, автор — женщина), которая представляет собой прогулку по Лондону, там сплошная топография: названия улиц, рынков, таверн и так далее во всей их красочности. Я прикинул: нет, это непереводимо, то есть перевести можно, но уйдёт главный смысл. Тут надо понимать, что такое перевод: это русское произведение, которое является следствием английского. Следствием, и только. Не копией и даже не отражением. В лучшем случае — это ещё и диалог, согласие высоких договаривающихся сторон. Это сердечная угадка, попытка воплотить тот же замысел. И при этом не упустить поэтический характер вещи: наивность или торжественность, целомудренная скрытность или балагурство. И главное — само собой — это должна быть хорошая поэзия. Как говорил один главный инженер своим чертёжницам: «Некрасиво — значит, неверно».
О.Б.-Г.: На таком трудном пути необходимы проводники и наставники. Вспомним о них: кого вы считаете своими учителями в переводе?
Г.К.: Всех. Это была, главным образом, заочная учёба, я учился по чужим переводам. Пушкин однажды сказал: нет занятия более увлекательного, чем следовать за мыслью гения. Читая талантливый перевод, мы следуем за мыслью одного гения, который (преодолевая вавилонские рвы и рогатки) следует за мыслью другого гения. Это вдвойне увлекательно. Если же говорить о личных встречах, то мне посчастливилось знать многих больших мастеров: Штейнберга, Тарковского, Левика, Сергеева… многих. Нет, речь не об уроках — их не было. Но какие-то обмолвки, случайные фразы что-то катализировали в мозгу. Я учился и у своих ровесников и коллег. И опять-таки больше заочно. Человек мог красиво говорить или отмалчиваться — неважно: говорили его работы. Конечно, я читал и все дельные книги по переводу, особенно книги переводчиков-практиков, которые у нас выходили: Чуковский, Эткинд, Нора Галь, Любимов, Гинзбург… С огромным интересом вникал в высказывания мастеров прошлого, начиная с Василия Тредиаковского. Но самые замечательные формулы я нашёл у Пастернака в его статьях и письмах. Они проговорены сжато и как бы походя, но если эти высказывания собрать вместе, как священные суры, получится текст, который, по-моему, может стать Кораном для любого переводчика.
О.Б.-Г.: Когда вы впервые попали в Англию, в Ирландию, — насколько чужими вам показались эти — подробно знакомые заранее по текстам — страны, их культуры и, напротив, — насколько узнаваемыми?
Г.К.: Я никогда не ждал, что великая страна воображения совпадет с реальной страной, так наивен я не был. Когда я приехал в Ирландию в 1988 году (первая моя поездка за кордон), со мной носились, как с писаной торбой. Возили на машине по всей стране, устраивали встречи и лекции в лучших университетах, совместное чтение с Джоном Монтегю и так далее. Показали все — от Башни Йейтса близ Голуэя до Башни Мартелло в Дублине (с которой начинается «Улисс»). И тогда это не удивляло, а теперь, задним числом, поражает: с чего бы вдруг такая честь? Но то был медовый месяц России и Запада. Эйфория тогда была взаимная и головокружительная. А о чужих странах я немножко знал до этого — не по стихам, конечно, а по картам, по страноведческим книгам и описаниям.
О.Б.-Г.: И всё-таки, всё-таки — теперь, после всех эйфорий — английское для вас чужое или уже разновидность своего? Я для себя так различаю «своё» — «чужое» в смысле культурной принадлежности: по объёму того, что понятно до проговаривания и не нуждается в нём, что считывается до слов. В «своей» культуре этот объём, соответственно, велик. Вот интересно понять: знание и чувствование англоязычных литератур изнутри даёт ли такое чувство «своего», когда человек оказывается в соответствующих странах? Или всё-таки нет?
Г.К.: Литература, книги дают уверенность, что в других странах живут не пёсьеголовцы, а такие же люди, как ты. В этом их великая миссия. Они снимают тревогу — хотя и не конца, если ты не понимаешь языка, не знаешь, о чем говорят у тебя за спиной. Чужое? Но ведь это понятие относительное. Мы живём в Москве, а Москва — не вся Россия. В уральском городке, в пензенской деревне разве мы не чужаки? У нас есть свой круг. Свой — значит, кто вне круга, тот чужой? Отчасти так. Люди, которые не знают ни одной строки Лермонтова, для нас разве не островитяне с палочкой в носу? А возрастные барьеры? Разве мы — «свои» для этих подростков, тусующихся у двери кафе? Мы для них те же туземцы. Чужбина растёт вокруг нас. А своё — это те семь томиков Пушкина, которые Ходасевич увез в эмиграцию.
О.Б.-Г.: Хочется ещё понять, как соотносятся, как уживаются в вас переводчик и поэт: не конкурируют ли, не мешают ли друг другу, как обмениваются опытом? Кем из них вы чувствуете себя в большей степени — или такого деления и границы между ними нет?
Г.К.: Я чувствую себя в первую очередь филологом. Мне нравится вникать в глубинные смыслы стихов. Тут у меня есть свое know-how. Я уверен, что все поэты думают сходным образом, и поэтому лучший комментарий к стихам одного поэта — стихи другого. Особенно интересно, когда это поэты разных языков. Благодаря многолетнему чтению английских стихов у меня развилось своеобразное двойное зрение — когда видишь одну литературу как бы сквозь призму другой. Тут поневоле станешь компаративистом.
А привычка переводить — невольное шевеленье губ, всё время пытающихся сказать по-русски то, что они прочитали на чужом языке, побочное следствие этой жажды понимания. Аркадий Гаврилов, много лет переводивший Эмили Дикинсон, заметил однажды: «Стихотворение на чужом языке похоже на негатив портрета, в котором с трудом можно угадать черты личности поэта. Многое остается непонятным, пока не переведешь портрет с негатива на бумагу и не обработаешь отпечаток “химией” своей души».
И это действительно так. Перевод есть стремление окончательно понять, то есть ощутить кожей. А для этого необходим чувственный контакт со стихотворением, возможный лишь в своём языке. Так что выхода нет — надо переводить.
Мешают ли переводы писать собственные стихи? Отчасти да. Порой переводы, действительно, отнимают всё время и силы; но зато, переводя, ты учишься на самых лучших образцах, а эта учёба дорогого стоит. И наоборот: свой опыт стихописания помогает переводить. В последнее время я всё чаще стал замечать, что некоторые мотивы и идеи стихов, которые мне довелось переводить, уже встречались раньше в моих собственных опусах. То есть понимание сводится к простому узнаванию.
Спасибо за то, что читаете Текстуру! Приглашаем вас подписаться на нашу рассылку. Новые публикации, свежие новости, приглашения на мероприятия (в том числе закрытые), а также кое-что, о чем мы не говорим широкой публике, — только в рассылке портала Textura!




